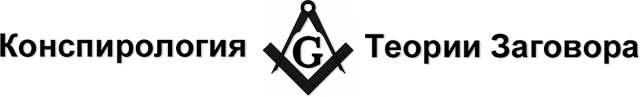Почему мировая финансовая система не готова принять криптовалюту
Профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики (Россия), кандидат экономических наук Александр Абрамов рассказал, почему криптовалюты не подходят на роль международных денежных единиц. Если технические трудности преодолимы, то в любом случае необходима полная интеграция бюджетной и банковской политики стран-участниц проекта. Что и доказал урок евро.
Digital.Report: Может ли какая-либо независимая криптовалюта быть принята в виде полноценной денежной единицы для взаиморасчетов в мировой финансовой системе?

Профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики (Россия), кандидат экономических наук Александр Абрамов
Александр Абрамов: В обозримом будущем криптовалюты не смогут стать альтернативой классическим деньгам в мировой финансовой системе. Почему за все эти годы не появилось международных классических валют? Потому что, когда взаимные расчеты осуществляются не столько между государствами, сколько непосредственно между хозяйствующими субъектами, сложно договориться о функционировании какой-то параллельной валюты и ее обеспечении. Расчеты проще осуществлять через те или иные резервные валюты стран. Чтобы международная валюта реально использовалась, она должна заменить национальные валюты, на что большинство государств мира сегодня вряд ли готовы.
Решает ли эти проблемы введение криптовалюты? На мой взгляд, нет. Криптовалюта может скорее выполнять функцию финансового актива, используемого для накопления, чем меры стоимости и средства платежа.
Сложно договориться о функционировании какой-либо параллельной валюты, в том числе и крипто, и ее обеспечении для расчетов непосредственно между хозяйствующими субъектами.После того, что обычные люди и компании натерпелись после кризиса 2008 года, вполне понятно желание предпринимателей и граждан создать альтернативу банкам и официальным деньгам. Однако здесь важно не выплеснуть из ванной воду вместе с ребенком.
Если посмотреть на криптовалюту как на денежное средство, то ее главное преимущество заключается в наличии особой технологии, предотвращающей необеспеченную эмиссию новых денежных единиц. Однако этого мало для денег. Нужно, чтобы на эту валюту был спрос производителей товаров и услуг, необходимы гибкие механизмы эмиссии валюты в соответствии с товарным покрытием. Для продавцов товаров важен стабильный курс данной валюты по отношению к другим валютам, надежный механизм конвертации валют. Наконец, необходим механизм защиты валюты от манипуляций со стороны недобросовестных лиц.
Если посмотреть на тот же биткоин, то сегодня он выполняет роль и денег, и инвестиционного актива. В этом уже заложено глубокое противоречие. Столь волатильная цена на данный актив является серьезным препятствием использования биткоина в качестве денежного средства. Например, если курс доллара быстро укрепляется, то тем, кто продает товар за доллары становится сложнее их продать, они начинают проигрывать в конкурентной борьбе. Но почему такое же не может происходить с биткоинами или иной криптовалютой?
Открытым остается вопрос о том, как складывается курс криптовалют, в какой мере на него оказывают воздействие те или иные заинтересованные стороны, например, те, кто занимаются майнингом криптовалют. Таким образом, пока еще трудно говорить о благоприятных перспективах цифровых валют или их альтернативе классическим валютам. Скорее всего, наибольший позитив, который они приносят, – это популяризация технологии блокчейн, у которой несравненно больше перспектив использования в тех или иных сферах, чем у самих криптовалют.
На постсоветском пространстве, в том числе в рамках ЕАЭС, президент Казахстана регулярно предлагает «ввести международную расчетно-платежную единицу, которая позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках. Валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссии, подвластный ее потребителям. С учетом цифровизации, развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты». Если идти по этому пути, то кто должен выпускать криптовалюту?
Тут имеются два подвопроса: насколько страны вообще готовы отказаться от собственных валют в пользу международных валют, а если такое возможно, реализуемо ли это на технологии криптовалюты. Отвечая на первую часть вопроса, замечу, что после ситуации с кризисом евро в 2012 году сторонников международных валют, по моему мнению, стало значительно меньше. Урок евро показал, что без полной интеграции стран, прежде всего в вопросах бюджетной и банковской политики, создавать единую валюту – шаг довольно рискованный. Однако, как оказалось, даже Евросоюз с его многолетними усилиями не в состоянии перейти в полной мере к такой интеграции. Поэтому у меня все же несколько осторожное отношение к ближайшим перспективам новых международных валют.
Если же представить себе, что несколько государств будут готовы пойти на интеграцию, более глубокую, чем существует в Евросоюзе, то у единого центрального банка такого международного образования будет право выбора – ориентироваться на классическую новую валюту или сразу реализовать проект криптовалюты. В такой ситуации мне почему-то кажется, что был бы выбран вариант классической валюты. Дело в том, что сегодня валютный курс – это один из самых эффективных инструментов экономической конкуренции между странами. Даже просто в силу этой причины, не думаю, что кто-то добровольно отказался бы от данного механизма влияния на международные экономические отношения. Сегодня, да и для ближайшего завтра, это было бы слишком смелое решение.
Пресс-конференция Путина — мнение экономистов и бизнесменов
В ряду экономических установок президент повторил прежние обещания: не менять налоги для бизнеса, снижать расходы на оборону и поддержать промышленность. Что думают эксперты о тезисах ПутинаФото Sputnik / Alexei Druzhinin / Kremlin via REUTERS
Подавлять инфляцию
Главное задание президента осталось прежним – понижать инфляцию.
«Она будет рекордно низкой за всю новейшую историю России, и если мы дальше будем работать по её подавлению и выйдем на уровень 4%, это существенным образом стабилизирует ситуацию с тарифами», — сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Президент подтвердил неизменность прежнего курса: приоритет макроэкономической стабильности, выраженной в снижении темпов инфляции, отмечает научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Дмитрий Скрыпник.
Инфляция – лишь один из элементов экономической политики, но считать, что он вытянет все остальное – ошибочно, скептичен директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.
Путин вновь похвалил Центробанк. «Нет никого, кто считал бы, что Центральный банк, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет», — сказал Путин.
По его словам, работа ЦБ направлена на обеспечение в первую очередь интересов вкладчиков. «Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые являются «прачечными по отмывке» каких-то денег, то ничего хорошего из этого не получится, вкладчики будут страдать», — сказал он.
Экономисты не разделяют оптимизма относительно обоснованности жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Большая группа экономистов и людей бизнеса считает, что политика Центробанка привела к финансовому замораживанию экономики, отмечает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин:
«Так называемое отсутствие спроса на деньги и профицит ликвидности – это следствие сверхвысокого ссудного процента. На кризис отвечают не сжатием, а стимулированием.
Мы видим, что ослабление роста цен связано в первую очередь с ограничением роста цен и тарифов, регулируемых государством». Рост и спрос на деньги есть в отраслях, где искусственно создан дешевый кредит наряду с бюджетными преференциями — это аграрный сектор и ВПК, добавляет он.
Рубль стабилизирован временно и искусственно, он держится на входящем спекулятивном потоке валюты на операциях carry-trade, которые при любом существенном колебании в глобальных финансах может немедленно развернутся против рубля, предупреждает Миркин.
Вклад в снижение инфляции, ско
vstrokax.net
Мнение главных экономистов
Евгений Гавриленков, главный экономист ИК «Тройка-Диалог»: — Надо понимать, что, когда такими темпами, как в первом полугодии, у нас растет денежная масса, эти деньги где-то должны проявиться. И они постоянно проявляются — то на рынке…
Евгений Гавриленков, главный экономист ИК «Тройка-Диалог»:
— Надо понимать, что, когда такими темпами, как в первом полугодии, у нас растет денежная масса, эти деньги где-то должны проявиться. И они постоянно проявляются — то на рынке жилья, то на рынке продовольствия. При нынешнем уровне цен на нефть гораздо привлекательнее переводить зерно на биотопливо. Животноводство сразу реагирует на ожидаемый рост цен на кормовое зерно. В результате у нас и повышаются цены на основные продукты питания.
То, что сейчас предлагаются фактически советские меры, которые не могут сосуществовать с капиталистической экономикой, напоминает старый анекдот. Все выносят детали с завода, который вроде как чайники производит, а когда начинают эти детали собирать, кроме как автомата Калашникова, ничего другого не выходит. Вот и мы возвращаемся к тому, что глубоко под корку засело. Пройдем очередной цикл неэффективности системы на протяжении какого-то количества лет и придем к необходимости ее демонтировать. Рано или поздно что-то начнет рушиться.
Просто сейчас такой период, когда у государства много денег: нефтяные цены были и остаются высокими, большой Стабилизационный фонд и так далее. Поэтому появляются иллюзии, что государство может все, а рычаги у него в первую очередь административные. Но государственное регулирование цен всегда приводит к дефициту.
Я думаю, что система начнет адаптироваться. Вчера Центральный банк уже начал предоставлять кредиты на долгосрочной основе. Заработал механизм рефинансирования. Деньги становятся все более дорогими. Рост процентных ставок, стабилизация цен на нефть, если она состоится, сжатие платежного баланса — все это будет постепенно трансформировать систему. В полной мере до объявленных намерений по воссозданию старой системы мы не дойдем. Все-таки экономика сейчас более открыта, и новые-старые структуры будут явно проигрывать.
Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка:
— Меры, предлагаемые правительством, актуальны и эффективны, но они важны для недопущения дальнейшего роста цен, а дефляцию они не вызовут. Если сейчас будет изменена тарифная политика экспортных и импортных пошлин, это поможет в начале следующего года, может, даже с декабря. Инфляция все равно будет выше 8%, но это позволит не допустить ее выхода на высокие уровни в 11—12%.
Дальше все будет зависеть от того, насколько у нас пострадает экономический рост. Сейчас ЦБ активно поддерживает ликвидность банков. Эти меры инфляционны. Если параллельно будет происходить ускорение экономики, тогда инфляционный эффект будет менее значим.
В России инфляция является результатом двух факторов: с одной стороны, монетарной политики, а с другой — роста тарифов. Ее импульс, конечно, зависит и от роста цен на энергоносители на мировом рынке.
Как правило, для контроля за инфляцией в развитых странах повышаются процентные ставки, сокращается предложение денег, и, таким образом, монетарная инфляция снижается. Этот инструмент мы сейчас задействовать не можем, потому что у нас напряженная ситуация с ликвидностью в банковском секторе. Но есть и вопрос тарифной инфляции. Совершенно очевидно, что рост тарифов в следующем году будет происходить быстрыми темпами, так как крупнейшие компании, которые не смогут взять в полном объеме кредиты в банках или за рубежом, будут вынуждены финансировать свои инвестиционные проекты повышением цен. Общеэкономическая ситуация предполагает, что у нас происходит некое инфляционное давление.
Единственный способ в такой ситуации снизить это давление — применять меры по ускорению экономического роста, чтобы рос спрос на деньги.
www.novayagazeta.ru
Самые известные экономисты
Эта наука очень интересная и неоднозначная. Неслучайно экономисты обожают спорить. Обычно дебаты посвящены темам, которые обычным людям непонятны и малоинтересны. В мире есть несколько экономических школ, однако у каждого уважающего себя экономиста есть собственное мнение по поводу происходящих в мире процессов.
Говорят, что на двух экономистов приходится целых пять разных точек зрения. Так что не стоит спорить с таким специалистом, лучше сдержанно соглашаться и подкидывать новые темы для обсуждения. Тогда разговор может не прерываться.
Тем не менее, несмотря на присутствие собственного мнения, у каждого экономиста найдется авторитет. Расскажем ниже о десяти самых известных представителях этой славной, но такой неоднозначной науки.
Адам Смит (1723-1790). Так совпало, что имя ученого оказалось пророческим. Он сумел стать настоящим Адамом для экономики. Именно Смита считают первым экономистом и основателем всей этой науки. Фундаментом для нее стала его книга «Исследование о природе и причинах богатства народов». В этом труде Смит предложил концепцию экономического человека, которым движет эгоизм и стремление к обогащению. Именно работа Смита и лежит в основе капитализма. Интересно, что книга появилась в 1776 году, как раз тогда, когда родилась самая большая капиталистическая страна мира — США. Смит выявил знаменитую невидимую «руку рынка». Ею он объяснил странное явление. Оказывается, действуя исключительно в собственных корыстных целях, каждый из нас не только приумножает свой капитал, но и делает богаче общество в целом. Возможно, подумать о природе богатства Смита заставили его шотландские корни? Ведь в этой стране скупость считается нормой. А скончался Адам Смит через год после Французской революции. А ведь та провозгласила не просто свободу и братство, но и всеобщее равенство. Такие идеи шли вразрез с мыслями великого экономиста об индивидуальном обогащении. До сих пор теория Смита вызывает много вопросов. Далеко не всем нравится идея о том, что большинством из нас движут не высокие мотивы, а банальная жажда наживы. Такая теория нанесла удар по самолюбию человека. Надо сказать, что слава ученого была настолько велика, что он умудрился даже попасть в русскую поэзию. Так, труды ученого читал Евгений Онегин, который считал себя великим экономом.
Дэвид Рикардо (1772-1823). Подобно многим другим экономистам Рикардо по национальности был евреем. Он происходил из семьи сефардов, которые поселились в Англии после изгнания из Испании. Родители Дэвида были весьма богатыми, но когда он наперекор им женился на не еврейке, Рикардо был лишен наследства. Вот и пришлось ему самому зарабатывать себе на жизнь, что неплохо получалось. Молодой экономист сумел сделать неплохую карьеру в банке, а затем сумел попасть в парламент. Однако такие достижения не смогли удовлетворить его запросам. В итоге Рикардо придумал концепцию международной торговли. До него считалось, что для страны будет благом максимальный экспорт и минимальный импорт. Благодаря такому устаревшему подходу международная торговля развивалась крайне медленно. Рикардо же смог доказать, что благом будет специализация страны на каком-то определенном товаре, от такого подхода смогут выиграть все. Экономист пришел к выводу, что благосостояния будет расти, даже если произойдет концентрация на каком-то одном производстве и импорте всего остального. Пускай даже страна может остальные товары выпускать с большей эффективностью, нежели ее торговые партнеры. Из такой теории понятно, почему банкиру не следует делать ремонт у себя в квартире, пусть даже он может сделать это лучше наемного рабочего. Дело в том, что потраченное им время этот высококлассный специалист сможет употребить с большей пользой, работая по своей специальности.
Карл Маркс (1818-1883). Всемирно известный ученый имел много детей, а жил в бедности. Фактически Маркс находился на содержании у своего друга, Фридриха Энгельса, успешного бизнесмена. Это уже само по себе выглядит довольно странно, ведь большинство экономистов, открывших новые закономерности в своей науке, смогли свои познания использовать в корыстных целях. Но сам Маркс сумел создать такое учение, которое хотя периодически и объявляется несостоятельным, периодически возвращается к жизни. Ученый полагал, что стоимость любого товара находится в прямой зависимости от потраченного на него труда. Капиталист может извлекать прибыль только в том случае, если цена товара будет стоять выше, чем стоимость производства. А добиться этого можно исключительно эксплуатацией рабочего класса. В конечном счете, по мнению Маркса, капитализм приведет к полному обнищанию пролетариев. Надо сказать, что такая теория является полной противоположностью суждениям Адама Смита. По его мнению с обогащением капиталистов и самим рабочим перепадает часть дохода. Во второй половине прошлого столетия стало ясно, что идеи Маркса неверны. Ведь в капиталистических странах рабочие смогли добиться высокого уровня жизни. А вот в социалистических странах, живших по заветам экономиста, населения так и не увидело обещанного процветания. Но новый виток кризиса во всем мире в начале XXI века снова возродил интерес к идеям Карла Маркса.
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946). Тем, кто считает, что экономисты являются скучными и занудными людьми, стоит побольше узнать о Кейнсе. Этот ученый вовсю вращался в кругах лондонской богемы, среди его друзей были писатели и художники. Супругой же Джона являлась русская балерина Лидия Лопухова. Правда с ней он личного счастья так и не обрел, так как был гомосексуалистом. А вот в экономике Кейнс оказался настоящим профессионалом. При этом он не просто учил других этой непростой науке, но и сам играл на бирже. Делал это Кейнс довольно успешно, неплохо заработав на своем увлечении. До Кейнса экономика представляла собой классическую науку, созданную Адамом Смитом. А вот Джон сумел создать новую экономику, свою. Во времена Великой депрессии оказалось, что «невидимая рука» Смита не всегда может справляться с экономическими проблемами, именно поэтому порой требуется решительное вмешательство государства. В тяжелые кризисные времена страна просто обязана увеличивать траты, тем самым будет поддерживаться уровень занятости населения. Благодаря Кейнсу был также создан послевоенный валютный режим. Сперва его привязали к золотому стандарту, а теперь уже к американскому доллару, обеспеченным лишь авторитетом страны.
Йозеф Шумпетер (1883-1950). Сто лет назад Вена стала столицей людей сомнительных профессий. Там оказалось множество как известных писателей, музыкантов, психиатров, так и просто шарлатанов. Не обошлось в столице Австро-Венгрии и без экономистов. Когда Йозеф Шумпетер еще только учился в Венском университете, он поклялся стать лучшим любовником, наездником и экономистом в столице страны. Уже будучи в преклонном возрасте, мужчина сожалел, что так и не смог освоить искусство верховой езды. А вот в остальных занятиях он преуспел. Шумпетер сумел войти в историю благодаря своей теории созидательного разрушения. Согласно ней капитализм развивается поступательно, при этом все старое уничтожается, а на его месте появляется что-то новое. Наверное, сейчас множество поклонников этой теории собралось в Силиконовой долине. Ведь там инвесторы обычно дают средства тем бизнесменам, у кого за плечами есть хотя бы один провалившийся проект. Ведь тех, кто не научился созидательно разрушать, воспринимают, как неопытных дельцов, недостойных доверия.
Фридрих Хайек (1899-1992). Это выходец из Австрии также покинул страну с приходом Гитлера, как и его коллега Шумпетер. Именно Хайек стал одним из первых, кто сумел поставить под сомнение плановую экономическую модель и предсказать ее крах. Экономист полагал, что чиновники не обладают всей полнотой информации, чтобы создать функциональный и достоверный план. Надо сказать, что экономисту во многом повезло. Он сумел дожить до того дня, когда его теории воочию воплотились в реальность, что удалось немногим значимым экономистам. Великий ученый родился в 1899 году, а умер в 1992. Хайек сумел увидеть как зарождение советского государства с его плановой экономикой, так и его крах. Надо отметить, что Хайек терпеть не мог государство и не признавал его вмешательство в экономику. Именно поэтому он яростно оппонировал Кейнсу, являясь любимчиком консерваторов.
Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-2006). В бытность послом Америки в Индии, Гэлбрейт часто писал послания президенту Кеннеди. Говорят, тот любил читать эти депеши. И вовсе не потому, что в Индии кипела как-то по-особенному политическая жизнь, просто Джон Гэлбрейт писал всегда едко и остроумно. Это был один из нескольких университетских ученых США эпохи 1960-х, которые сумели стать культовыми персонажами своего времени. Гэлбрейт был известен не меньше, чем Генри Киссинджером или Тимити Лири. Академические труды ученого по экономике читаются довольно легко, аналогично дипломатическим депешам из Индии. Экономист подверг критике крупные компании за их излишнее воздействие на рынок, искусственное формирование вкусов потребителя и активное участие в политике. К экономике же вообще Гэлбрейт, как и ко всему прочему в жизни, относился весьма скептически. Так, он сказал, что польза от экономических прогнозов только в том, что по сравнению с ними даже алхимия становится уважаемой наукой.
Мильтон Фридман (1912-2006). Этот ученый знаменит своим изобретением монетаризма. Как уже было сказано, экономисты обожают спорить друг с другом. А вот Фридман любил спорить вообще со всеми. Особенно он обожал дискутировать с Кейнсом, не смущал Мильтона и тот факт, что его собеседник уже давно умер. Фридман считал, что государству не стоит вообще как-то регулировать экономику или вмешиваться в нее. По мнению ученого свободные рынки смогут отрегулировать себя сами, как и любой здоровый организм. А для того, чтобы не возникала инфляция и не рождались экономические кризисы, по его мнению надо заниматься контролем денежной массы. Фридман полагал, что денег в экономике не должно быть не слишком много, не слишком мало. Ведь уместна аналогия с человеческим организмом, который надо кормить здоровой и полноценной пищей. Вредно будет и объедание, и чрезмерное голодание.
Джозеф Стиглиц (род.1943). Ученый появился на свет в весьма примечательном городе Гари, штат Индиана. Именно отсюда родом музыкальная семья Джексонов. Стиглиц же видел, как на его глазах мощный промышленный город с развитым сталелитейным делом, которым он был раньше, превратился в трущобы. Джозеф Стиглиц является одним из самых главных представителей посткейнсовской экономики, которая основывается на учении Кейнса, но включает в себя также и элементы теории Маркса. Сам ученый являлся экономическим советником президента Клинтона, он занимал пост главного экономиста Всемирного банка. На этом высоком посту он критиковал действие международных экономических организаций. Стиглиц настолько отстаивал свои взгляды, что подверг критике даже Международный валютный фонд и свое место работы, Всемирный банк. Ученый считал, что нельзя излишне поклоняться перед свободным рынком, так как это приведет к бедности в развивающихся странах. Труды Стиглица были оценены Нобелевской премией в 2001 году. Комитет отметил его исследования, которые доказали неравномерность распространения информации на рынке. Это говорит о том, что «невидимая рука» свободного рынка далеко не так эффективна, как об этом думают сторонники теории Адама Смита.
Пол Кругман (род.1953). Этот ученый также является лауреатом Нобелевской премии, правда его права на это довольно спорное. Академические работы Кругмана в области торговли специалистов не особо впечатляют. В любом случае они не могут считаться настолько уж значимыми, чтобы за них присуждать главную премию в научном мире. Возможно, шведы таким образом отметил колонку Кругмана в «Нью-Йорк Таймс». В этой газете ученый все восемь лет пребывания у власти Джорджа Буша довольно метко и остроумно критиковал его политику. Тексты действительно были уместными и талантливо написанными. Мнения Кругмана читала не только вся Америка, но и другие страны. Именно это и сделало Кругмана самым знаменитым из современных экономистов. Правда на политику администрации президента эта критика так и не оказала никакого воздействия. Сама же страна оказалась на пороге банкротства и финансового краха, что собственно и предсказывал Кругман. Президента Обаму экономист вначале поддержал, но теперь стал критиковать уже и его политику. Интересно, что мнение Кругмана идет вразрез с республиканцами и консерваторами. Те полагают, что государственный бюджет ввиду дефицита в 1,3 триллиона долларов должен сократить свои траты. А вот Кругман пришел к выводу, что стране надо тратить еще на триллион больше, чтобы вывести экономику из кризиса.
Популярные мифы
Популярные факты
Популярные советы
Популярные сленг
www.molomo.ru
Западные экономисты — о секрете неожиданного успеха экономики РФ
Агентство Bloomberg сообщило, что наша страна вышла из самой продолжительной за последние 20 лет рецессии. Причем этого удалось достичь раньше, чем планировалось. Проанализировав данные, эксперты поняли, что восстанавливаться экономика РФ начала еще с начала 2016 года. Что же случилось?
Экономика России-2017: прогноз
Не нефтью единой
В прошлом году цены на нефть оставляли желать лучшего. В этом они растут благодаря сокращению объемов добычи, о котором договорились экспортеры «черного золота». Но в 2016-м приятным сюрпризом стал рост в неэнергетических секторах, отметил Владимир Михашевский, старший стратег в Danske Bank A/S в Хельсинки.
«С точки зрения изменений в структуре экономики, рост в неэнергетических секторах имеет большее значение для формирования более благоприятной ситуации в долгосрочной перспективе, чем повышение цен на нефть и объемов добычи», — отметил он.
Санкции
Санкции же больше навредили тем, кто первый их ввел. Как сообщала «Правда.Ру», Евросоюз из-за введения санкций в отношении России и из-за контрсанкций уже потерял 17,6 млрд евро, пишет Der Standard со ссылкой на данные Австрийского института экономических исследований. Кроме того, санкции привели к сокращению 400 000 рабочих мест в странах ЕС.
Россия же научилась жить с санкциями. Больше того, российский бизнес приходится успокаивать: не бойтесь, санкции в ближайшее время не снимут!
Резервы есть!
Что же будет в 2017-м?
«Первые ежемесячные данные в этом году содержат в себе новые признаки того, что в 2017 году начнется масштабное восстановление макроэкономики России, — написал в своем докладе Дмитрий Полевой, экономист по России в ING Groep NV в Москве. — Существенный рост активности в январе вероятнее всего был связан с укреплением рубля, снижением уровня инфляции и ростом внутреннего спроса».
Правда, многое зависит от того, как поведет себя администрация Дональда Трампа. Если санкции смягчат, то, по мнению большинства экономистов, опрошенных изданием Bloomberg, курс рубля вырастет на 5-10%. Как показал этот опрос, ВВП тоже продемонстрирует рост: порядка 0,2% в этом году и 0,5% в следующем.
Замедляются и темпы инфляции. А вместе с этим растут объемы розничной торговли.
Как ранее сообщала «Правда.Ру», действия правительства РФ по снижению зависимости экономики от нефтегазовых доходов и восполнения суверенных фондов заставили рейтинговое агентство Moody’s в феврале улучшить прогноз по рейтингу России. Об этом сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы приветствуем решение агентства Moody’s об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с «негативного» на «стабильный». Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из «большой тройки», принявших аналогичное решение еще в прошлом году», — сказал Силуанов журналистам.
Кроме того, по мнению экспертов Forbes, Россия преодолела экономический кризис и снова стала вызывать повышенный интерес у инвесторов.
О состоянии современной России недавно рассуждал журнал Foreign Policy. Журналист делит американских экспертов, которые оценивают РФ, на два лагеря. В одном нашу страну изображают в качестве главной угрозы либеральной демократии: «страшная, агрессивная, экспансионистская и реваншистская реинкарнация Советского Союза во главе с Путиным, олицетворяющим наихудшие проявления авторитаризма». Второй лагерь он назвал «Умирающий медведь». В нем России он предсказывает застой, коррупцию и упадок.
Автор статьи предлагает искать истину посередине и опираться на факты. А говорят они о том, что в РФ растут продолжительность жизни, уровень здоровья, да и рубль стабилизировался после обвала в конце 2014, а рецессия 2014-2015 годов статистически завершена.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
www.pravda.ru
Мнение экономиста
30 марта состоялась пресс-конференция известного экономиста, президента Союза предпринимателей и арендаторов России, генерального директора международного фонда «Содействие предпринимательству» Андрея Бунича на тему «Возможно ли изменить срок давности по самым скандальным приватизационным сделкам 90-х годов? Амнистия приватизации — победа или поражение олигархов?»
На пресс-конференции Бунич прокомментировал итоги недавней встречи Президента РФ Путина с представителями российского бизнеса, в частности вопрос о сроках давности приватизационных сделок 90-х годов, затронутый президентом.
О приватизации. На встрече с представителями российского бизнеса президент говорил о том, что поддерживает предложение об изменении срока давности по приватизационным сделкам с 10 до 3 лет. Но не все нашумевшие сделки 90-х годов являются приватизацией, например залоговые аукционы имеют совсем другой юридический статус. Двенадцать наиболее скандальных так называемых приватизационных сделок, в числе которых передача контрольных пакетов акций ЮКОСа, «Сибнефти», «Норильского никеля» и «Сургутнефтегаза» в частные руки, с юридической точки зрения были оформлены именно в результате залоговых аукционов, однако при их совершении были допущены нарушения законодательства. Залоговые аукционы, по сути, были закамуфлированной продажей государственного имущества, они не являются приватизацией и попадают в категорию притворных сделок. Таким образом, слова президента об изменении сроков давности по приватизационным сделкам не имеют отношения к олигархам, заработавшим свой капитал благодаря притворным сделкам. Притворная сделка — это сделка, совершённая для того, чтобы прикрыть другую сделку, что в Гражданском кодексе РФ является несомненным основанием для признания таких сделок недействительными и их отмены. Обсуждению и рассмотрению на самом высшем уровне должен подлежать именно притворный характер залоговых аукционов, в результате которых вокруг 12 предприятий образовались олигархические структуры, парализовавшие развитие экономики России.
Об олигархах. Рассуждая о судьбе олигархов, следует учесть, что под новые сроки не подпадает уголовное преследование, в то время как оно вполне возможно, если имели место подлог, мошенничество, злоупотребление служебным положением, корыстный умысел, предварительный сговор, любые должностные преступления. Нельзя исключать, что эти преступления не были совершены в процессе проведения залоговых аукционов.
Олигархи пытаются убедить общество, что пересмотр итогов приватизации приведёт к тому, что скоро настанет очередь «простых людей», у которых отнимут всё и вся, включая приватизированные квартиры и другую собственность. Это политика запугивания населения, имеющая своей целью сделать из приватизации священную корову, на которую никто не может посягнуть, что абсолютно неоправданно.
О власти. В контексте сообщений СМИ о налаживании диалога между бизнесом и властью по меньшей мере странным выглядит недавнее заявление помощника президента Игоря Шувалова о том, что дело ЮКОСа — «это только начало пути в отношении других налогоплательщиков». Получается, что глава государства говорит одно, а государственные чиновники — совсем другое, что может означать либо отсутствие в высших эшелонах власти единой позиции по этому вопросу, либо, что гораздо хуже, существование ситуации, когда правительство говорит одно, а делает другое.
О малом бизнесе. Идеология встреч с олигархами, разбавленными представителями малого бизнеса, неверна. У них совсем разные проблемы и потребности, это всё равно, как если бы рабы и рабовладельцы вместе боролись за свои права. Чтобы малый бизнес мог развиваться, следует прежде всего демонтировать олигархическую систему управления экономикой.
Что делать стране. Есть тенденция опять продавать всё, что попадётся под руку, причём быстро и срочно. Это уже было в 90-х годах, и последствия этого известны. Идея ускорения приватизации несвоевременна: мы ещё не разобрались с тем, что есть. Надо наложить мораторий на приватизацию, в противном случае любые попытки новой приватизации дискредитируют политику президента и правительства, так как, несомненно, вызовут крайне негативную реакцию со стороны населения, которое и так находится во взрывоопасном состоянии после монетизации льгот.
versia.ru
мнение американских экономистов – тема научной статьи по экономике и экономическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка
Н.В. Наливкина
НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА РОССИИ К РЫНКУ:
МНЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ ЭКОНОМИСТОВ
Рассмотрены некоторые модели перехода к рыночной экономике, которые, по мнению американских исследователей, явились образцом для проведения экономических реформ в России. Дается анализ модели конкурентного равновесия в российском контексте.
Споры о переходе к рыночной экономике стран, которые выбирают путь демократических преобразований, не прекращаются до сих пор. Почему в одних странах переход привел к стабильной основе рыночных отношений без глубоких негативных последствий демонтажа тоталитарных и диктаторских режимов, а в других — переход затянулся на десятилетия и модернизация негативно отразилась на уровне жизни населения? Специфика этих споров заставляет экономистов вернуться к рассмотрению некоторых моделей переходной экономики как в теоретическом, так и в практическом аспектах.
В любой стране переход отличается условиями исторического, политического и уровнем экономического развития, традициями общественного сознания, географическим расположением и масштабом территории. Накоплен большой эмпирический материал по переходам к рыночной экономике в странах Латинской Америки, Центральной, Южной и Восточной Европы и Южно-Азиатского региона.
Ярким примером могут служить бывшие социалистические страны Восточной и Центральной Европы и республики бывшего Советского Союза, где социалистический опыт был различным. Эти отличительные черты повлияли на экономическую деятельность и характер политической власти. Например, в Венгрии, Польше, Чешской Республике и Балтийских государствах был накоплен опыт демократии и ведения рыночного хозяйства. Демократическое развитие этих стран было прервано последующим строительством социализма, но накопленный опыт позволил перейти к либеральным реформам, отрицая революционные методы.
Согласно парадигме транзита, либерализация предшествует демократизации. Там, где традиции либерализма были укоренены сравнительно давно, переход произошел наиболее успешно и мирно (Чехия). Интерес представляет пример Венгрии. До советизации в этой стране не было достаточно длительных периодов демократии, и традиции либерализма можно оценить как слабые. Но с середины 1950-х гг. проводились реформы либерального типа сначала в экономике, а затем и в политической сфере. После краха советского блока Венгрия была наиболее свободной, по сравнению с другими его участниками. В результате переход к демократии и рынку в Венгрии прошел с меньшими затратами, чем в других странах Восточной Европы.
Существуют два важных момента на начальной стадии перехода, на которые указывает ряд исследователей, — разрыв с прошлым и роль государства [1. С. 790791]. С одной стороны, разрыв с прошлым является критическим для демократизации, экономических реформ,
политической стабильности и экономического роста, с другой — ни демократия, ни экономические реформы, ни политическая стабильность невозможны при ограничении государственной власти. Но существует другое мнение, которое указывает на то, что разрыв с предыдущим развитием является необязательным. Мы обратимся к такой модели развития экономики позже.
На данный момент для нас представляет интерес «неоклассическая модель» конкурентного равновесия, которая явилась, как считает ряд западных исследователей (М. Помер, Л.Р. Клейн, К.Дж. Эрроу), образцом для проведения экономических реформ в постсоветской России.
Российские реформаторы слишком верили в свободный рынок и уделяли мало внимания роли государства и правительства. Под влиянием западной экономической модели конкурентного равновесия архитекторы российской реформы недооценили требования успешного экономического перехода. Это идеализированное изображение экономики, применяемое поверхностно реформаторами к вызовам экономического перехода, преувеличивало ожидания результатов свободного рынка.
В этой модели предполагается, что экономика находится в состоянии равновесия тогда, когда каждый агент максимизирует свой личный интерес, совершая покупки и продажи. Согласно идеальному изображению, рынок, предоставляя свободу участия во взаимовыгодных обменах, автоматически преобразовывает следование личному интересу в материальное изобилие. Система рынка в рамках этой модели является эффективной.
В концепции конкурентного равновесия нет места правительству. Поэтому первым требованием экономической реформы — будь то в контексте экономического перехода или экономического развития — является отстранение или изъятие правительства из экономики. На наш взгляд, модель конкурентного равновесия, примененная поверхностно, поддерживает стратегию шоковой терапии. В России многие сторонники реформ приветствовали слабость административного вмешательства правительства.
По мнению М. Помера, в рамках этой модели для перехода к капитализму необходимо реализовать следующее:
— либерализацию — устранение контроля над ценами, снятие ограничений на международную торговлю и потоки капитала;
— приватизацию — передача общественных активов частным владельцам;
— стабилизацию — стабильность денежной единицы, главным образом за счет сокращения правительственных расходов [2. С. 23].
По степени принятия этих мер можно судить о понимании идеала свободного рынка, воплощенного в модели конкурентного равновесия. Либерализация обеспечивает свободу, приватизация — стимулы, стабильность окружающей среды способствует процветанию частного предпринимательства.
Суждение о том, что рынок приспособился бы самостоятельно без активного вмешательства правительства, оказалось ошибочным для России. Международная конкуренция и радикальные изменения в ценовой структуре стали пагубными для промышленности. На фоне обвального снижения уровня жизни населения опрометчивая приватизация привела к передаче активов богатой страны в руки политически мощной элиты. Правительственные невыплаты заработной платы, коррупция, демонетизация экономики говорят об узко задуманной стабилизации. Обесценивание банковских вкладов и потеря технологического потенциала превратили Россию в источник сырья, а не в современную индустриальную страну.
Рассмотрим функционирование трех существенных элементов системы рынка в модели конкурентного равновесия на примере перехода России — рыночных цен, максимизации прибыли и конкурентных рынков.
В советской командной экономике цены определялись правительством. В рыночной системе фирмы производят любую продукцию, приносящую прибыль, в то время как в советской системе правительство решало, что производить и по каким ценам продавать. Советская экономика полагалась на правительственный контроль сверху вместо того, чтобы, опираясь на конкуренцию, обуздать должностные преступления и некомпетентность на местах.
Стратегия шоковой терапии предполагала, что три существенных элемента рыночной системы появятся спонтанно с разрушением командной системы. Этого не случилось. М. Помер обращает внимание на то, что правительству следовало бы принять спланированные действия для того, чтобы способствовать появлению функционирующей рыночной системы. Оно должно было играть главную роль, пока система рынка не развита, и дополнительную роль даже тогда, когда три существенных элемента реализованы [2. С. 24].
Основой социальной политики в течение всей советской эры являлись обеспечение населения продуктами питания и жилищное строительство, стоимость которых была заниженной. Энергия, по сравнению с мировыми стандартами, сохранялась относительно недорогой в целях поддержки ресурсами военнопромышленного комплекса.
Воздействие цен на производителей было незначительным, так как им позволялось выходить за рамки своих бюджетов при необходимости выполнения ими части плана, определенного центром. Цены, установленные правительством, неверно отражали экономические затраты. Эта иллюзорная действительность позволила многим экономистам сделать ложные выводы, следствием которых стало предположение о том, что отпуск цен позволит российской экономике сделать рывок вперед.
Ценовой контроль отбивал охоту поставлять продукцию, и это стимулировало активность черного рын-
ка. Поэтому службы социальной защиты должны были защитить тех, кого затронули изменения в ценах.
В течение перестройки установленные правительством цены явились бедствием для предпринимателей. Всеобщий острый дефицит обусловил расцвет черного рынка. 2 января 1992 г. произошел отпуск цен. Товары действительно появились на полках, но повышенные цены сделали их досягаемыми только для «новых русских». Выравнивание цен до уровня мировых привело к трудностям в промышленности, использующей технологии, созданные на основе другой ценовой структуры. Изменение цен повлекло за собой резкое снижение прибыли предприятий и доходов государственного бюджета. Изменение в ценах и быструю инфляцию можно было бы смягчить, если бы правительство временно ограничило рост цен, не замораживая их. Рассматривая эту ситуацию, М. Помер предполагает, что «денежный навес» мог бы быть сокращён за счёт временного ограничения изъятия больших вкладов и посредством принудительного перерасчета процента от этих вкладов в долгосрочный правительственный долг. Не говоря уже о плюсах временного контроля над ценами, сдерживающего инфляцию, постепенного изменения в ценовой структуре и ценовом регулировании, обязательном для монополий и производства товаров первой необходимости [2. С. 25].
Для рассмотрения функционирования второго существенного элемента рынка — прибыли — обратимся к ранним попыткам реформирования по-советски.
Под впечатлением от возрожденной послевоенной Западной Европы советское руководство решило, что децентрализация вместе с ориентацией на максимизацию прибыли могли бы принести экономический эффект социализму. Начиная с 1960-х гг. была расширена автономия предприятий и прибыль начали использовать и как критерий производительности, и как основание для увеличения заработной платы управленцам и рабочим. Однако максимизация прибыли была зависима от заданного плана, и поэтому два других существенных элемента рыночной системы — рыночные цены и рыночная конкуренция — отсутствовали.
Таким образом, когда правительство ослабляет свое руководство и не стимулирует внедрение инноваций, состояние экономики не улучшается. На наш взгляд, аналогичное произошло во время перестройки с последующей приватизацией и в течение шоковой терапии -расширение самостоятельности предприятий при отсутствии надлежащих условий привело к ухудшению экономической деятельности. Борьба за контроль над принадлежащими государству предприятиями и их активами, включая природные ресурсы, стояла на первом месте по сравнению с созданием условий для увеличения прибыли. Управленцы стремились к расширению своих прав собственности, а не к увеличению прибыли, в то время как беззаконие и мафия грабили и вели к растрате имущества. Там, где в ходе приватизации рабочие получили долю собственности, владельцы последовательно продолжали патерналистскую практику, чтобы поддерживать преданность рабочих. На самом деле владельцам было выгодно попытаться скупить доли работников предприятий по минимальным ценам. Высокая прибыль увеличивает риск вымогательства и привлекает налоговых инспекторов.
Надо отметить, что и в хорошо функционирующей системе рынка автономные, максимизирующие прибыль фирмы автоматически не служат общественным интересам. Нестабильная, преступная среда в России поощряла уклонение от налогов и за короткое время не только нанесла урон финансовому посредничеству, но и привела к подрыву платежной системы.
Поэтому соответствующие институты — властные структуры корпораций, государственный контроль и даже нравственные ценности собственников и менеджеров — необходимо направить на максимизацию прибыли в интересах общества.
Теперь рассмотрим функционирование конкуренции. В советской экономике большинство продукции поставлялось монополиями. Не было оптовой торговли, чтобы обеспечить спрос товарными резервами, и поэтому возник черный рынок, восполняющий дефицит. Считалось, что при шоковой терапии рынки конкуренции возникнут внезапно. Вместо этого расцвела преступность, возникли новые антиконкурентные структуры, банки, контролируемые олигархами.
Без конкуренции фирмы не считают нужным эффективно вкладывать капитал и реагировать на спрос покупателей. На увеличение спроса они отвечают повышением цен, а не увеличением производства.
Оптовая торговля и посредники нужны не только для предупреждения возникновения дефицита, но и для ограничения власти монополий. Важная роль правительства на переходом этапе заключается в поощрении роста оптовой торговли, посредничества и защите от проникновения в их среду преступности. Общеизвестно, что на данном этапе в России правительство должно было демонтировать монополии, которые являлись наследницами советской экономики и не были конкурентоспособны.
Для роста конкуренции жизненно важно облегчить лицензирование новых фирм, а правительственные контракты сделать открытыми для общественности. Открытая для притока капитала экономика будет способствовать повышению качества конкуренции на российском рынке на тот период, пока не будут привлечены перспективой устранения российских конкурентов иностранные инвесторы.
Конкуренция, при некоторых обстоятельствах, может поддержать формирование конгломератов или других полумонополистических структур. Экономика роста производства требует одного или нескольких производителей. Прибыльность поощряет долгосрочные вложения, препятствуя оттоку капитала и чрезмерному предложению. Вообще, фирмы нуждаются в большой прибыли, чтобы пережить колебания спроса и получить инвестиции.
Внешнее финансирование невозможно для большинства российских фирм, поэтому здоровая прибыль нуждается не только в финансовом инвестировании, но также и поддержании действующего капитала.
Сложности относительно цен, максимизации прибыли и конкуренции показывают, что подход невмешательства ничего хорошего не обещает, и это доказала российская практика.
Чтобы более полно понять повороты в решениях российского правительства, полезно рассмотреть не-
достатки неолиберальной модели, которые выходят за рамки реалий действительности.
Неолиберальная модель оставляет вне своего внимания (вне парадигмы) многие критические проблемы экономики переходного периода. В первую очередь правительственные инициативы должны быть направлены на изменения, преступность, существующий колониализм и неравенство.
Переход — это неизбежные изменения. Но в фундаментальной модели конкурентного равновесия понятие «равновесие» статично. К.Дж. Эрроу подчеркивает, что время в конкурентной модели, как и в любой сложной неоклассической теории, не является важным фактором [3. С. 87]. Л.Р. Клейн тоже отмечает, что «динамика нарушения равновесия» также не сможет предложить что-либо подходящее для решения проблем переходного периода в экономике [4. С. 76]. В модели конкурентного равновесия нет и таких явлений экономической жизни, как воровство, вымогательство. Предположение, что все обмены являются добровольными и взаимовыгодными, позволяет рассматривать преступность как реакцию на запреты свободного рынка.
Неоклассическая модель показывает выгоды объединенной мировой экономики и игнорирует риски поглощения несопоставимых в экономическом развитии систем и социальные издержки «экономической колонизации». Создание новой ценовой структуры и требования для внутреннего производства наносят вред и могут привести к разрушению. Международное движение капитала облегчает демонтаж активов и уклонение от уплаты налогов в развивающихся странах, с одной стороны, а с другой — эти процессы подвергают опасности стабильность валюты, препятствуют реальным инвестициям.
Эта модель игнорирует проблему неравенства. В теоретическом доказательстве превосходства рыночной экономики, определенном Парето, не берутся во внимание распределение дохода и богатства (общество, в котором элита живет в роскоши, а большинство борется за пропитание). Согласно неоклассической модели начальное перераспределение доходов может гарантировать равноправное распределение, но это понятие начального перераспределения ничего не имеет общего с реальным миром, который развивается на основе уже существующих условий. Кроме того, идеология свободного рынка несовместима с прогрессивным налогообложением и социальными затратами. Более критическими, специально для руководства экономическим переходом, являются особенности экономического контекста. Россия вольется в мировую рыночную систему, если установленная структура и макроэкономические условия будут закреплены институционально.
Отсутствие институтов, законодательства и норм, поддерживающих функционирование рынка, было одной из главных проблем перехода в России. Западным экономическим системам понадобились столетия, чтобы развить организационные структуры, законы и нормы для своего нормального функционирования. В России более чем через семьдесят лет были демонтированы централизованные механизмы общественного строя, а новые, заслуживающие доверия и эффективно действующие учреждения не возникли сразу же на
месте старых. Как только были демонтированы учреждения правительственного контроля, острая нехватка юридических учреждений обернулась криминализацией окружающей обстановки. Большинство вновь возникающих фирм подверглось давлению со стороны преступных организаций. В данном случае только правительство могло обеспечить подлинную безопасность для частной собственности и предпринимательства. Поэтому правовые нормы и сотрудничество, основанное на доверии, являются основой для инновационной рыночной экономики.
Финансовое посредничество, являющееся предпосылкой для инвестиций, требует не только доверия, но и владения информацией об окружающей обстановке. Ответственное правительство владеет существующей информацией о продукции, о предписанных стандартах бухгалтерского учета, может способствовать созданию и распространению знаний, соответствующих, технологическому развитию. Налоговые власти должны оказывать помощь, преследуя по суду собственников и владельцев, уклоняющихся от налогов и использующих незаконные методы.
Главной особенностью современных экономических систем являются международные корпорации, которые уже присутствуют в границах прежнего советского блока. Развитие конкурентоспособных российских корпораций будет зависеть от привлечения капитала и экспертизы иностранных партнеров.
Неоклассическая парадигма, обосновывая выгоды неограниченных личных интересов, поддерживает индивидуалистическую этику, в некоторых случаях препятствующую функционированию рынка. Без культуры, способствующей доверию и сотрудничеству, невозможны потенциальные рыночные сделки, включая долгосрочные. Прославление личного интереса находится в противоречии с потребностью в лидерах и избирателях, поддерживающих экономическую политику, которая служит нации в целом. Россия сейчас находится на стадии развития новой экономической системы, поэтому формирование отношения к общественной пользе жизненно важно.
Обратимся к макроэкономике перехода. С разрушением СЭВ и распадом СССР были потеряны рынки. Закрытие устаревших предприятий, сокращение, а в ряде случаев прекращение бюджетного финансирования расходов на социальные и военные нужды, падение жизненного уровня привели к тому, что совокупная потребность на российские товары была сметена массивными потоками импорта. По мнению М. Помера, постепенный переход к рынку, принимая во внимание взаимозависимость экономической деятельности, смягчил бы проблему неудовлетворённых потребностей [2. С. 31]. Рост коррупции и экономического неравенства также уменьшал потребности людей, концентрируя покупательскую способность в элите, ориентированной на вывоз капитала и импортированную роскошь.
Но ещё большей проблемой был рост инфляции, обусловленной ростом издержек и трудностями в поставках. Ликвидация центрального планирования разрушила каналы поставок. В нормально функционирующей системе рынка повышение цен стимулирует поставки и уменьшает потребности, но при разорванных
каналах поставок, монополиях, преступности невозможно обеспечить необходимый рост выпуска продукции.
Таким образом, мы охарактеризовали существенные элементы неоклассической модели конкурентного равновесия (цены, прибыль, конкуренция) и те факторы, которые выходят за рамки данной модели, — изменение, преступность, экономическая колонизация и неравенство, а также проблемы макроэкономики и становления новых институтов для обеспечения проведения реформ в российском контексте. Единой точкой зрения западных исследователей, на положения которых мы уже ссылались, является то, что российские реформаторы опирались в проведении модернизации России на западную экономическую ортодоксальную теорию. Поэтому они расценивали либерализацию-привати-зацию-стабилизацию как мгновенный рецепт успешного перехода, не учитывая положительного наследства, оставленного после краха советской системы, — относительно равное распределение доходов, высокий уровень здравоохранения и образования [2. С. 42].
Профессор экономики университета в Пенсильвании Л.Р. Клейн, анализируя социалистическую и рыночную системы экономики, отмечает, что ни одна из них не соответствует своему теоретическому идеалу. Каждая из этих систем функционировала практически как смешанная экономическая система. Обе они как экономические системы несовершенны в отражении реального мира [4. С. 77].
Характеризуя различные пути экономических переходов, он обращает внимание на рыночный социализм как модель существования смешанной экономики. Ярким примером нерадикального перехода к рынку он считает постепенную модернизацию Китая. Китайский пример является совсем иным образцом, чем шоковая терапия или другие формы переходов к рынку. Целью модернизации являлось создание мелкой частной собственности при наличии рыночного социализма. Сельское хозяйство и мелкое малое производство были отданы в руки частных владельцев. Была проведена незначительная приватизация, которая не являлась главной целью модернизации. Основными особенностями в некоторых секторах экономики признавались появление рынка и самостоятельность в принятии решений. Начиная с 1980-х гг. и в последующие десятилетия, произошел необычайный рост производства сельскохозяйственной продукции и обслуживающего производства. После внушительного роста прибыли в сельском хозяйстве и в обслуживающей сфере производственный рост фиксировался постоянно.
Из всего этого Л.Р. Клейн делает следующий вывод: переходная экономика не должна преследовать конечные цели. Необходимо достичь определенной макроэкономической стабильности, а затем приступать к реструктурированию. Как только экономическая стабильность достигнет необходимого уровня, можно приступать к более детализированным реформам. Все примеры переходов, использующих политику шоковой терапии, доказывают, как важно создание макроэкономической стабильности. Главными результатами такого просчета в экономическом переходе являются инфляция, безработица, дефицит, снижение производства и преступность. Л.Р. Клейн не обходит вниманием некоторые методы и особенности
китайского перехода. Целью перехода являлись достижение смешанной экономики с небольшой долей частной собственности; открытая торговля; создание специальных экономических зон; введение современного экономического образования; применение количественных методов в планировании экономики.
Удивительным является тот факт, что, обвиняя российских реформаторов в оторванности их методов модернизации экономики от действительности, многие американские экономисты сами не лишены иллюзий. Да, возможно, китайский пример является одним из вариантов экономического перехода. Но для России это пройденный этап (нэп). Такой вариант экономического перехода в России невозможен по причине уничтожен-
ного за годы советской власти крестьянства и отсутствия мелких предприятий. Рассуждать о постепенном переходе можно много и долго. Но было ли время у российских реформаторов для такого перехода? Нет. В стране была угроза коммунистического реванша. Если бы не либерализация и приватизация (пусть и в грабительской форме, ведь банковские вклады пропали в ходе «павловской денежной реформы»), не возникла бы частная собственность, а вместе с ней и свобода, и другие институты демократического государства. Вся ценность таких исследований заключается в детализации проведения экономических реформ и как пример совершения экономических переходов для других стран, в другое время.
ЛИТЕРАТУРА
1. Bunce V. The Political Economy of Postsocialism // Slavic Review. 1999. Vol. 58, № 4.
2. Pomer M. Transition and Government // The new Russia: Transition gone awry. California: Stanford Univ. Press, 2001.
3. Arrow K.J. The Role of Time // The new Russia: Transition gone awry. California: Stanford Univ. Press, 2001.
4. Klein L.R. What Do Economists Know about Transition to a Market System? // The new Russia: Transition gone awry. California: Stanford Univ.
Press, 2001.
Статья представлена кафедрой философии и социальных наук философского факультета Томского государственного педагогического университета, поступила в научную редакцию «Экономические науки» 8 января 2007 г.
cyberleninka.ru